- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (13) »
Сергей Шервинский Стихи разных лет
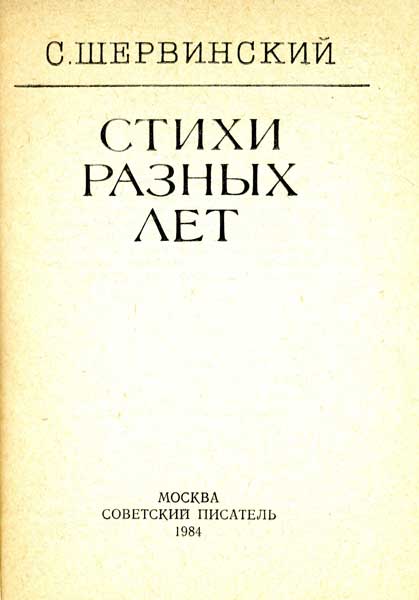
СТИХИ О ВЕНЕЦИИ (1914—1920)
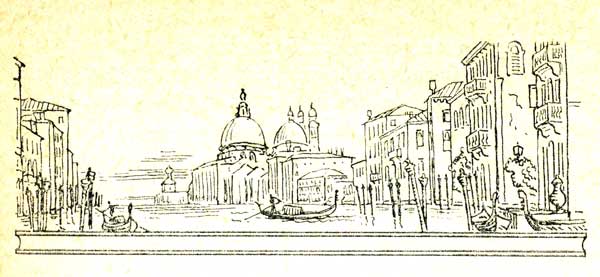
Гондола
Моей Венеции бесшумная ладья, О тихая стрела! В дни горести одета Ты чёрной бахромой. Люблю твой траур я. Нарочно создана, чтоб колыхать поэта, Гондола плавная, под арками мостов Скользящая крутым осеребрённым носом. С неё внимать легко заботам стоголосым Житейской музыки каналов и домов, Посудой ли гремят иль упражняют скрипку; Легко и женскую приманивать улыбку. Лишь с главной улицы с просторною водой Свернёшь ты в узенький канал заплесневелый, Твой гондольер, склонясь в своей рубахе белой, Крик гулкий подаёт, и за углом другой Ему ответствует, и, рядом проплывая, Проходят две ладьи, не задевая края. Был благодатный май, когда под взором звёзд В гондолах плавал я, свободный, одинокий. Сползали ветви роз из-за стены высокой, И тени белые перебегали мост. Судьбой лелеемый и не желая лучшей, Простив минувшее, к пределу не спеша, Я беззаботен был в Венеции плавучей, Ей молча вторила влюблённая душа.Язык Венеции
Не часто радует нас голос человечий. И в повседневности шумливых наших дней Мы в четырёх стенах людские слышим речи — То фразы лектора, то диалог друзей. Но в странном городе на заводях лагуны, Где лучезарны дни и благосклонны луны, Где в лодках нежится благоуханный май, Там говору людей на воле ты внимай. Где тихие мосты, где до морских окраин Доносится удар гигантовых часов, Где каждый стройный миг из тишины изваян, Услышишь пенье, крик, брань, ропот голосов — Их гулко отдают зелёные глубины. Язык Венеции — что рокот голубиный, — Тех смирных голубей, чей лёгкий трепет мил Плечу бывалому. Давно ли их кормил И я на площади у Марковых подножий, Где, виден издали, исконный Вены враг, На мачте треплется красно-зелёный флаг Турина гордого над ветхим градом дожей.Гостиница
В моей Италии встречается досель На тихих площадях особый род гостиниц. Хозяин там — седой проворный флорентинец, И вывеска гласит «albergo», не отель. Такой «albergo» полн привычек и традиций, Но вытерты ковры, углы запылены, И аромат гарибальдийской старины Задохся в комнатах. Перебирая спицей, Служанка старая приветствует гостей. Есть в каждом номере с громадным балдахином Двуспальная кровать, где пуховым перинам Мы рады в сырости нетопленых ночей. Во всей гостинице не чуешь жизни новой, И переписаны с полвека потолки — Румяные цветы, венки и мотыльки — Всего сохраннее былая жизнь в столовой: Ореховый сервант и люстры из стекла, Пустеют столики с меню в приличном тоне, И, нас перенося к Миньоне и к Гольдони, Венецианские тускнеют зеркала. Тут молча пей вино в бокале ограненном И впечатленья дня припоминай в тот миг, Когда уж подан сыр и, глядя по сезонам, Янтарность «нэсполи» иль красный пурпур фиг.Дитя Венеции
Мать родила тебя на плесени подвала. Теперь слоняешься по лужам древних плит, От зноя прячешься за мрамор пьедестала, Где чудился и мне звон вычурный копыт Коня роскошного, на коем рыцарь бритый С лицом Нечистого и панцирем покрытый Жезл в бронзовой руке налево повернул. Здесь у кирпичных стен ты вслушивалась в гул Невразумительных, но сладостных служений С их причтом кружевным у дожеских гробниц. В день исповеди здесь ты припадала ниц, Молясь: боялась ты соседских осуждений За мимолетный грех, приплывший на корме С веслом сверкающим, свершенный в полутьме Апрельской полночи за храмовой абсидой. Ты из объятий тех гроша не унесла, — Лишь беззаботный плеск поспешного весла Да сердце, полное младенческой обидой.Худая, бледная, еще чего-то ждешь. Недолго прожила, недолго проживешь, — И вскоре в некий день, как правило, нежданный, Ты будешь схвачена предсмертною тоской, И повезут твой труп в гондоле безуханной Под алым рубищем на общий упокой.
Дитя Венеции, тебя я знаю ныне, Когда с Бедекером исписанным — к картине, Не всеми виденной, дорогу я ищу, Среди убожества о славе не грущу, Хотя и не забыв о юноше Гарольде, Сгибаясь, подхожу под влажное белье, Из закоулка вдруг мне личико твое Мелькнет, и слышу я привычный возглас «Сольди!», — И детская в упор уж тянется рука. Но помня издавна предупрежденья гидов, Пристрастья к нищенке улыбкою не выдав, В прохладный храм вхожу, взволнованный слегка, И прямо к алтарю иду без колебанья, Где фра-Антонио уж обещает стать Мне на день поводом научного гаданья, — Так изумительно умел он птиц писать!
К сторожу церкви Сан-Джорджо Дэи Скьявони
Еще ты жив ли, мой единственный приятель В Венеции? Ужель безумная война Тебя оторвала от твоего окна Не для того, чтобы пополнить — мой создатель! — Беспечные ряды, что Альп нагую грудь Дробят, предведены седеющим Кадорной[1]. Ты был уж слишком стар, — но смерть могла спугнуть Тебя, и, может быть, на той же лодке чёрной Твой прах перевезли в святую тишину Морского кладбища твои внучата, дети И все семейные! В ту милую весну Любил я посмотреть, как ты рыбачьи сети Латаешь сморщенной, узлистою рукой, По подоконнику протягивая ногу, Которую томят артриты, в неживой, Но славной церкви, — здесь давно не служат Богу. Весь день сидишь один. Рассказывал ты мне, Что знал художника из Руссии далекой, Что часто чай он пил, что только по весне Уехал, и что с ним простился ты как с другом. Я в говоре твоем всего не понимал, Но счастлив был своим оправданным досугом.Сан-Джорджо! Утлый храм, и сумрачен, и мал, Мерцает дерево смиренной позолотой. Карпаччо по стенам с прилежною заботой По фризу развернул простой души рассказ: Там братья прах несут почившего в восторге, А здесь, копьем грозя, проносится Георгий На фоне города в передвечерний час.
У «Моста Вздохов»
На мост, соседящий с мостом «Дэи соспири», Облокотился я — прохладный- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (13) »